Глава 2. Машины
О «машинах» Делёз и Гваттари заговорили уже в «Анти-Эдипе», и этот концепт переходит из работы в работу авторского тандема и присутствует в книгах, написанных философами по отдельности. В «Анти-Эдипе» речь шла о «желающей машине» (machine desirante), в «Кафке» - о «машинном ассамбляже», в «Тысяче плато» - об «абстрактной машине» (наряду с «военными машинами» и «машинными типами»), в «Что такое философия?» - о «машинном портрете». Такое разнообразие ясно показывает, что термин «машина» носит не технический, а гораздо более широкий характер. Отталкиваясь от концепта «мегамашины» Л. Мамфорда, Делёз и Гваттари вырабатывают своё понимание, охватывающее и технический, и социальный аспекты. Их «машина» состоит из мобильных связей между различными элементами, которые различаются как по происхождению, так и по выполняемой функции. Концепт «желающей машины» позволяет им создать материалистическую концепцию понимания бессознательного.
Можно сказать, что Гваттари, исходя из концепта «машины», выработанного им совместно с Делёзом, показал процесс конституирования субъективности. У Делёза и Гваттари «машины» выступают означающим по отношению к машинным взаимодействиям, которые, таким образом, всегда есть нечто большее, чем знаковые отношения. Поэтому именно в этой «машинности» Гваттари видел возможность освобождения от «семиотического рабства». Как отмечает М. Свибода, в своих самостоятельных работах Гваттари «стремится представить означивание как часть более широкой сети интерактивных процессов, в которые вовлечены тела, субъективность,
[39]
знаковые и не-знаковые компоненты»74; так, у Гваттари «абстрактная машина» становится фундаментальным компонентом перехода от ограниченной репрезентационистской модели к более открытому «трансверсальному» подходу, «свободность» которого заключается в идее о том, что означающие занимают «страты», независимые от означаемых, порождая «произвольность» и убирая препятствия с этической траектории мысли. Ещё яснее этот момент выразил Г. Ламберт в своей «Нефилософии Ж. Делёза»: «Мы помним… какой переворот вызвало утверждение Соссюра относительно «произвольности связи между означающим и означаемым». После этого заявления многие объявили, что эта связь абсолютно свободна, в том смысле, что все означающие произвольны; поэтому всякая связь потенциально ложна и носит деспотический характер. Такое представление привело к преувеличенным и наивным утверждениям относительно «произвольности означающего», которые часто встречаются в истории постмодернизма и порождают сходные заявления относительно «текста», «структуры смысла», ведущие к деконструкции («нет никакого означаемого», «никаких значений», «ничего вне текста» и т.п.) и вызывающие то ликование, то отчаяние. Большей части подобных преувеличений можно было бы избежать, если бы те же самые критики дочитали работу Соссюра до конца; они обнаружили бы, что, хотя связь между означающим и означаемым носит «произвольный характер», в то же время она является «абсолютно необходимой». Здесь Соссюр утверждает превосходство Нечто над Ничто, принимающее форму «потребности», исторически разворачивающей свои значения…»75 Делёзу и Гваттари удаётся, не впадая в «преувеличения», о которых говорит Г. Ламберт, оставаться на материалистических позициях и, в то же время, не редуцировать нематериальное к материальному.
[40]
В «Анти-Эдипе» Делёз и Гваттари утверждают, что все аспекты бытия, с которыми сталкивается человек, могут быть описаны как машины. Шизофреник понимает, что нет различия между человеком, природой и машинами. Всё бытие для него сводится к процессам продукции и репродукции, и только производство объединяет фрагменты бытия. Иными словами, нет никакого человека, который был бы отличен от окружающего мира. Шизофрения, таким образом, - универсум машинного производства желания. «Человек» и «природа» - эффекты этого производства. Делёз и Гваттари развивают (да простят нам это выражение) своего рода регрессивную онтологию производства, сходную с той, которую несколько лет спустя будет разрабатывать Ж. Бодрийяр: машины производят машины, и нет никакого «самого первого», исходного пункта производства. Человек также представляет собой машину с первых дней своего существования: так, анус ребёнка - машина, производящая экскременты, его рот - машина, производящая потребление молока; рот младенца и материнская грудь вместе составляют новую машину. Важным следствием из этого является то, что машины не имеют никакой иной цели, кроме самого производства. Шизофреник - «универсальный производитель», не делающий различия между производством и его продуктом. Желание - не вещь, а процесс. «Желающие машины» полностью инвестированы в производство и никогда не могут быть «удовлетворены». «Желание», о котором говорят Делёз и Гваттари, во многом сходно с ницшевской «волей к власти». Последняя также никогда не может быть удовлетворена посредством достижения некой цели, да, собственно, она и не имеет никакой цели в смысле господства или овладения чем бы то ни было. Таким образом, это чистая движущая сила. «Желание» не имеет отношения к «недостатку»; авторы «Анти-Эдипа» порывают с хайдеггеровской онтологией «подручного». Можно провести параллель и с лакановским пониманием «нужды», имеющей конкретные цели и принципиально удовлетворимой, и «желания», неудовлетворимость коего яснее всего выражена в концепте «реального».
В «Анти-Эдипе» в значительной степени сохраняется представление об «экономии желания» - по-видимому, как своего ро-
[41]
да «реликтовый шум» структурализма. В поздних работах Гваттари стал рассматривать желание в «машинном» аспекте. В беседе с М. Рыклиным в 1991 г. он говорил: «…Я в значительной мере освободился от инстинктивной экономии желания, как она виделась мне ранее, чтобы прийти к потокам (flux) и оттокам (reflux), которые уже не соотносятся с инфраструктурой инстинктов. Поэтому я всё чаще говорю о машинной структуре, машинной функции желания».76 Такая позиция отражает намерение Гваттари освободить понятие желания от психоаналитических коннотаций.
Обыденное мышление рассматривает машину как разновидность техники. Гваттари считает, что машина предшествует технике, а не является её частным проявлением.77 Существует целый «бестиарий» машин. Аристотель рассматривал techne как создание того, что природа произвести не в состоянии. Механистические концепции сводят машинность к простому конструированию. Витализм уподобляет машины живым существам. Открытая Н. Вине «кибернетическая перспектива» рассматривает живые системы как машины, работающие по принципу «обратного действия». Более поздние концепции системности используют термин Ф. Варела «автопойезис» (самопроизводство) применительно к живым машинам. После Хайдеггера возникла философская мода нагружать понятие techne миссией «раскрытия истины» - в противоположность технике - приковывая его к онтологии и лишая первоначального процессуального характера. Здесь, между этими «подводными камнями», Гваттари рассматривает машинность как таковую, учитывая технические превратности социологии, аксиологии и семиотики.
В беседе с П. Ковальски Гваттари говорил:
…В машине присутствует живой энонсиативный аспект. Машина - не просто совокупность деталей, составляющих её элементов, при всей своей механичности она также носительница фактора самоорганизации, обратной связи и автореференции. Существуют маши-
[42]
ны, или системы, обнаруживаемые на социальном и экономическом уровнях, а также на уровне биосферы. И высказывание конкретного индивида, который обращается к своему соседу или консьержке, есть лишь «терминал» комплексного плана всех этих машинных систем, представляя собой их пересечение.78
Понятие машины, считает Гваттари, не сводится к техническому определению. Каждый тип машины имеет свою «специфическую энонсиативную устойчивость» (consistance enonciative specifique). Прежде всего, в нашем сознании термин «машина» означает материальное устройство, созданное человеческими руками и отвечающее целям производства. Из-за узости и ограниченности такого определения нам приходится прибегать к более широкому, определяя машину как совокупность функционального. Такая «машина» имеет множество характеристик: 1) материальные и энергетические составляющие; 2) диаграмматические схемы и элементы алгоритмической семиотики (чертежи, уравнения, расчёты и т.п.); 3) органометрические параметры человека; 4) коллективные и индивидуальные представления о машине; 5) инвестиции «желающих машин», производящих субъективность; 6) абстрактные машины, возникающие как «поперечные» феномены материального, когнитивного, эмоционального и социального уровней машинности.
«Абстрактная машина» - это то, в чём пересекаются все перечисленные характеристики. Именно «абстрактная машина», располагаясь «поперёк» всех этих характеристик, определяет их существование, эффективность и «онтологическое самоутверждение» (auto-affirmation ontologique). Все составляющие машины оказываются вовлечены в единую динамику. Такую функциональную совокупность Гваттари называет «машинным планом» (agencement machinique). Термин «план» у Гваттари не означает однозначной связи, переходов или анастомоза между компонентами машины. Речь лишь о плане возможного поля, в котором функционируют
[43]
виртуальные элементы.79 Примерами могут служить молоток, молоток со снятой ручкой (т.е. «изуродованный») или сочетание молота и серпа в советском гербе. Упрощая, можно сказать, что Гваттари имеет ввиду контекстуальность с её коннотациями, однако любой контекст, в который помещён предмет, он рассматривает как «машинный план». Вслед за Леруа-Гураном Гваттари говорит о том, что предмет - ничто вне технической совокупности, к которой он принадлежит. Вместе с тем, надо иметь ввиду, что план не «предшествует» машинам, а ими же и конституируется. Пожалуй, здесь стоит отметить параллель с фонологией Н.С. Трубецкого, в которой оппозиция формируется входящими в неё элементами, которые становятся таковыми только входя в оппозицию.80 «План не имеет иных областей, кроме заселяющих его и кочующих в нём племён».81
Наглядное представление о номадических машинах даёт этнологический материал Б. Гловчевски, бурно обсуждавшийся на одном из семинаров Гваттари. Б. Гловчевски говорит о территориальных претензиях австралийских аборигенов: «Здесь имеется около двадцати территорий, которые изображаются кругами, но максимально упрощённо, чтобы избежать территориальных претензий. Действительно, каждая окружность, изображённая здесь, не очерчивает замкнутую территорию, но ветвится, подобно паутине, и каждый круг частично присутствует в другом. Таким образом, ка-
[44]
ждая группа имеет права на территорию и в своём круге, и где-то ещё…»82
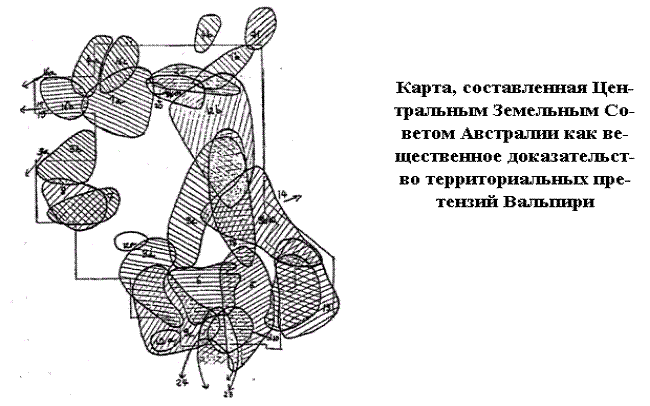
Карта, составленная Центральным Земельным Советом Австралии как вещественное доказательство территориальных претензий Вальпири
Приобретая всё больше жизненности, машины отрываются от человека. Компьютер представляет собой пространство мутации мысли. Машины увлекают за собой человека, мышление которого становится машинным. Научно-техническое мышление уже представляет собой механизацию мышления и знаковых систем. Нетрудно заметить сходство этих идей Гваттари с тем, что Ж. Бодрийяр говорил в «Системе вещей». Каждый предмет нашего быта, утверждает Бодрийяр, связан со структурными элементами технологии, но при этом ускользает от технологической структурности в сферу вторичных значений, из технологической системы в систему культуры. Вещи из нашего окружения функционально разобщены, и только человек заставляет их сосуществовать в едином функциональном контексте, малоэкономичном и малосвязном. «Предметы переглядываются между собой, сковывают друг друга, образуя
[45]
скорее моральное, чем пространственное единство».83 Человек, говорит Бодрийяр, «отстаёт» от своих вещей, уступая им в связности. Вещи как бы идут впереди человека в организации его среды и тем самым влекут за собой те или иные поступки человека. Функциональность вещей порождает функционального человека.
Структуралисты, говорит Гваттари, пытались объединить в одной категории все выразительные формы. Однако при этом они недооценили «пойетический» потенциал машин: деятельность машины постоянно воспроизводится, вырабатывая «автопойетические» продукты. Интеракциональная структура, о которой толковали структуралисты, функционирует по принципу «вечного возвращения». Машина, напротив, одержима желанием отмены. Всякое производство здесь удваивается угрожающими ему аварией, катастрофой, разрушением. Гваттари подчёркивает, что речь здесь идёт не только о нарушении формального равновесия виртуальных планов, но об «онтологической реконверсии» (reconversion ontologique). Машина как таковая всегда зависит от внешних по отношению к ней элементов. Её работа предполагает взаимодополняемость не только с человеком, который машину изготавливает, заставляет функционировать или разрушает, но и с иными машинами, выступающими как другое машины.
«Онтологическая реконверсия» полностью меняет понятие означающего. Здесь неприменимы смысловые единицы, отсылающие к изменчивому онтологическому референту, какие мы находим в химии или акустике. Конечно, смысловая дешифровка в случае с машинами может иметь те же бинарные, синтагматические и парадигматические формы, так что может возникнуть иллюзия того, что в машинах присутствует та же смысловая ткань. Но даже в виртуальных пространствах химии или акустики в каждом случае обнаруживается существенное своеобразие. Существует столько же типов детерриториализации, сколько способов выражения, и искать здесь единую структуру бессмысленно. С машинами всё обстоит ещё сложнее: никакие смысловые связи, возникающие здесь, не выражают внутреннего качества работы машины; продукты
[46]
«пойетической» машины носят не-дискурсивный характер, и их детерриториализация не подчиняется никакому общему синтаксису. Машинные высказывания ускользают от дискурсивных игр, происходящих в структурных координатах энергии, времени и пространства.
Вместе с тем, существует и онтологическая трансверсальность. Любое пространство соотносимо с человеческой личностью или социумом, впрочем, не в смысле платонической гармонии. Детерриториализационная интенсивность воплощается в абстрактных машинах. Гваттари говорит, что следует предположить существование некой потенциальной машинности, которая воплощается в технической машине, а также в связанной с этой машиной социальной и когнитивной среде. Так формируются социальные машины, машины-тела, машины научные, теоретические, информационные. Абстрактная машина проницает все эти машины, оставаясь в то же время гетерогенной по отношению к ним и не представляя собой универсального объединяющего начала. Лакановская модель в этом свете имеет два недостатка: во-первых, она испытывает нехватку «онтологической гетерогенности», унифицируя отдельные бытийные области, а во-вторых, неспособна абстрагироваться от специфики машинных элементов. Парадоксальным образом лаканизм одновременно и чересчур отвлечён, и отвлечён недостаточно.
Гваттари опирается на работу Ф. Варела84, который различает два вида машин: машины «аллопойетические» (allopoietiques) и «автопойетические» (autopoietiques). Первые производят что-либо отличное от самих себя, а вторые непрестанно продуцируют собственные организацию и границы. Эти последние постоянно осуществляют замену собственных компонентов, компенсируя внешние «повреждения». Таковы, например, биологические машины. Живые «автопойетические машины», впрочем, существуют в рамках генетического вида, поэтому автопойезис следует осмыслять, имя ввиду множество развивающихся единиц, между которыми возникают связи, имеющие отношение к аллопойезису. Технические машины, напротив, являются аллопойетическими, однако в мА-
[47]
шинном плане, который они составляют вместе с человеком, они оказываются автопойетическими. Таким образом, на автопойезис, рассматриваемый в плане онто - и филогенеза, накладывается механосфера, и наоборот.
Как и в биосфере, филогенез в механизации заключается в том, что одни поколения машин по мере устаревания сменяются другими. Здесь, впрочем, невозможно установить однозначную историческую причинность. Линии развития в мире машин имеют характер ризомы, и датировки здесь не синхроничны, но гетеро-хроничны. Например, промышленная революция в Европе выдвинула на первый план паровые машины, которые за несколько веков до этого в Китае использовали как детские игрушки. Технологическая эволюция знавала периоды застоя и регресса, однако практически неизвестны случаи, когда бы происходил ренессанс той или иной модификации машин. Причину Гваттари усматривает в том, что машины никогда не существуют изолированно, но всегда связаны с глобальными машинными мирами (univers machiniques). Неолитическая «машина», например, имеет в своём составе машину разговорного языка и машину работы с камнем. Машина письма появляется лишь с возникновением городских мега-машин. Грандиозная капиталистическая машина включает в себя машины города, королевской власти, коммерции, банковского дела, религиозную машину монотеистической детерриториализации и т.п.
Вопрос о репродукции машин в онтогенетическом плане весьма сложен. Сохранение статуса машины и поддержание её работы и функциональной самотождественности никогда не гарантированы сами собой. Износ, неполадки, авария, энтропийные процессы требуют постоянного возобновления материальных, энергетических и информационных составляющих, что создаёт некоторый «машинный шум». Сохранение машинного плана требует также постоянного возобновления человеческого компонента. Человек связан с машиной отношениями взаимодополнительности (например, агоническими отношениями в случае военных машин). Износ, несчастный случай, смерть или воскрешение машины составляют
[48]
её «судьбу». Таким образом, машинная репродукция не является простым и запрограммированным повторением.85
Машина создаётся взаимоотношениями своих компонентов. Куча камней не является машиной, тогда как стена уже выступает статической машиной со своей виртуальной полярностью: верх и низ, внутренняя и наружная, правая и левая стороны. Каждая технологическая машина имеет свой план сборки. С одной стороны, это дистанцирует её от всех прочих машин, с другой - связывает с ними в глобальной конструкторской схеме, своего рода машинном континууме.
В беседе с Е. Видекоком и Ж.-И. Спарелем Гваттари поясняет свой концепт следующим образом:
Ж.-И. Спарель: Откуда взялся твой интерес к машинам?
Ф. Гваттари: Эта страсть у меня с детства, страсть анимистская. Описание биологических, социальных, экономических и т.п. феноменов в терминах структуры представляется мне недостаточным. По ту сторону системных концепций я хотел создать концептуальную единицу, которая выражала бы не только отношения саморегулирования в структуре системы, но и её связь с окружением. Потому что машина всегда находится в состоянии диалога со своим иным: с технологическим и человеческим окружением, кроме того, она филогенетически связана с машинами, предшествовавшими ей, и с теми, что придут после неё. Так возникает новая форма инаковости: расположенность во времени. Помимо инаковости, машина полагает собственную конечность: она рождается, портится, ломается,
[49]
умирает. Такой ход рассуждений привёл к расширению понятия машины: кроме технологических машин, существуют машины биологические, социальные, городские, мега-машины, лингвистические, теоретические и даже желающие машины. Таким образом, этот концепт предусматривает возможность самоуничтожения машины.86
Так понимаемая машина, полагающая собственные расположенность во времени и конечность, имеет много черт сходства с Dasein Хайдеггера. Dasein без трансцендентности. При этом в представлении Гваттари о машинном мире можно усмотреть близость к трансцендентальному полю Сартра - полю «чистых возможностей», которое располагает к экзистенциальному обретению опыта. Таким образом, это что-то вроде событийного потока, порождающего субъекта посредством единичных событий. Это нейтральное, никому не принадлежащее сознание, интегрирующее действия и «организмы», т.е. индивидуальные сознания.87 В «Анти-Эдипе» Делёз и Гваттари называли это «трансцендентальное поле» «телом без органов».
«Машина» или «машинное производство» - термины, широко употребляемые в парижских семинарах Гваттари. В их применении нет никакого жёсткого правила. Как мы уже видели выше, машинами является всё. Позволим себе привести пространный фрагмент из беседы на семинаре 28 апреля 1981 г., в котором речь идёт о клинических машинах:
П.: Я хотел бы вспомнить историю Земмельвейса, которую пересказывает Селин. Впрочем, он, по всей видимости, деформирует её своей паранойей. Земмельвейс, австрийский врач, работавший в венгерской клинике, фактически открыл принцип инфекции до Пастера. Но в его времена не было никакой возможности объяснить окружающим, о чём идёт речь. Таким образом, у Земмельвейса было что-то вроде интуиции, абстрактная машинерия (machinisme abstrait), позволявшая
[50]
ему объяснить, почему 80 % женщин после родов умирали от сепсиса… Его мысль заключалась в следующем: существуют крошечные, очень маленькие существа, которые заносятся руками акушеров и больничного персонала. Он выступил с докладом, в котором изложил эту идею. Но все его слушатели кричали: «сумасшедший!», и Земмельвейсу пришлось умолкнуть. Тогда он предложил: «Если хотите, мы проведём эксперимент: я предлагаю людям, которые работают с женщинами, рожающими в нашей венской больнице, мыть руки; посмотрим, изменит ли это ситуацию». Его предложение было принято после долгих колебаний… Люди стали мыть руки, и действительно, уровень смертности упал с 80 % до 15 %. Собрания Академии Наук и Академии Медицины после трёх дней напряжённой работы предложили пять или шесть возможных объяснений, одно удивительнее другого: например, одно из объяснений сводилось к тому, что выбранное для эксперимента помещение располагалось под особым углом по отношению к солнцу и луне и потому… Всякий раз, таким образом, объяснения были не всеобщими, но частными: пять или шесть объяснений были приняты в качестве рабочих гипотез. В конце концов, Земмельвейс снова оказался в одиночестве со своей интуицией и утратил желание что-либо объяснять. Однажды он пришёл в патологоанатомический театр, где препарировали трупы женщин, умерших от сепсиса; он взял один из скальпелей, использовавшихся для препарирования трупов, надрезал себе вену и сказал: «Слушайте: через несколько дней я умру от той же болезни, что и эти женщины!». Действительно, так и случилось. Через несколько дней, пережив те же симптомы, Земмельвейс умер от сепсиса.
Гваттари: По крайней мере, после смерти его приняли всерьёз?
Х.: Да, в Венгрии его почитают как одного из величайших врачей страны.
П.: Мне кажется, в этой истории был лишь один убедительный момент, ценой своей смерти ему удалось сломить сопротивление окружающих: самым удиви-
[51]
тельным и решающим для них было то, что мужчина мог умереть со всеми симптомами женской болезни.
М.: Я в этом не уверен: думаю, здесь есть что-то ещё. Итальянцы, изучая историю открытий, пришли к выводу, что успехи наук - особенно психофармакологии - могут принести успех и в другой области. В настоящее время ещё много неизученного, но кое-что уже ясно. Пригожин - мыслящий весьма оригинально - предлагает другой пример: колесо. Вы можете представить себе мир без колеса? Нет. Ацтеки знали колесо, но колесо было для них игрушкой. Они пользовались им только как игрушкой, и ни у кого не возникало сумасбродной идеи сделать из него средство передвижения. Необходимо было дождаться определённого экономического, социального и т.п. уровня развития, чтобы колесо «одержало победу» и распространилось повсеместно. Так что я не верю, чтобы этот бедняга со своей смертью от сепсиса… (смех)
П.: Нет, но он, несмотря ни на что, продемонстрировал недостающее звено, проделанное им исследование было новацией, однако, хотя в нём всего хватало, оно осталось непонятым окружающими.
Х.: Следует обратить внимание на два момента: прежде всего, то, что он умер от инфекции, а также то, что он был доведён до крайности: Земмельвейс посвятил свою жизнь убеждению окружающих в превосходстве своих идей, и, можно сказать, именно от этого он умер - половину жизни он провёл в одиночестве, а другую половину в изгнании, поскольку был исключён из Академии Медицины.88 Произошло два события: во первых, временной фактор, который нельзя было сбрасывать со счетов ни в ту эпоху, ни в нашу. А с другой стороны, собственная гибель в качестве аргумента. Земмельвейс стремился умереть, но свидетельствовать своим телом о правдивости своих слов.
[52]
П.: И этого достаточно?
Х.: Для врача лучшим средством убеждения в правоте своих слов является эксперимент на человеке, так что он сам становится своей собственной подопытной морской свинкой.
П.: Интересно, например, - если не удаляться от темы жертвенности, - недавняя смерть немецкого террориста или, может быть, ирландца, достаточна для доказательства чего бы то ни было? Мне это представляется сомнительным.
З.: Конечно, нет! Разве Христос первым высказал то, о чём он говорил? Но он первым прибег к своей уловке.
Гваттари: Это ещё вопрос!
П.: Именно поэтому у меня складывается впечатление, что действенной в данном случае оказалась именно демонстрация: то обстоятельство, что за очень короткий промежуток времени этот венгерский врач смог воспроизвести на себе самом - на собственном теле - то, что те, кого он хотел убедить, уже видели; действуя таким образом, он устранил целую серию посредников. В эксперимент, длящийся два или три месяца, вмешивается так много посторонних факторов, что всегда можно найти множество других возможных объяснений. Но здесь всё было ограничено, с одной стороны, минимумом элементов, а с другой - тем, что он действовал, сопротивляясь вполне зрелому, на мой взгляд, венскому акушерству XIX века. Медицинские процедуры в отношении женщин, которые должны умереть, в конечном счёте, бессмысленны! Потому что ведь это совершенно естественно: 80 % женщин этой категории должны умереть. Здесь есть своя «логика», которую может поколебать лишь то, что и мужчина тоже может от этого умереть. В этом - и только в этом - заметно, что половая индексация болезни неверна.
Гваттари: Более того, к твоему уравнению надо подключить вопрос о том, почему Селин пересказывает эту историю. Получается целая серия: Земмельвейс-Пастер-Селин, три плана, которые представляют такое
[53]
же количество абстрактных машин. Очевидно, что, если мы станем искать линейную зависимость между этими тремя планами, мы рискуем наговорить монументальных глупостей, потому что увязывать их придётся на уровне микробиологического знания (микроскоп уже изобрели? они знали о работах Клода Бернара? и т.п.). В то же время, мы отчётливо видим, что иной тип гипотезы относительно того, что происходит в данный момент в рассматриваемом плане, невозможен по необходимости - практически - в этом плане медицинского знания. Это может увести нас бог знает куда! И гипотеза П., например, которая во всяком случае интересна и насыщенна: принять во внимание оппозицию мужчина/женщина в конкретном социальном пространстве и, в то же время, сущность женского труда… а также женский труд и войну 1914 года у Селина - проясняет характер абстрактной машины, не позволяя в то же время установить связь между планом Земмельвейса и планом Пастера, потому что предмет исследования здесь сводится к тому, чтобы узнать, почему он умер, доведя свои поиски до крайнего предела, до взрыва! Но это уже не наука, а всего лишь ссылка на какой-то совершенно идиотский героизм! Феномен машинной транзистенции (transistance) предполагает различные возможности описания, а не настойчивые утверждения типа: «это научно-медицинское поле со всеми характерными свойствами…» Проблема здесь в информации, её распространении или изоляции, отказе учёных от всего неизвестного, чему нет привычных объяснений…
В этом фрагменте беседы Гваттари сотоварищи очень ясно видны основные аспекты машинности. Прежде всего, эпистемологический аспект. Когда Фуко предлагал анализировать эпистемы с присущими им архивами, оставалось не совсем понятно, касается ли это исторической эпохи или географического ареала, или того и другого вместе. Иными словами, камнем преткновения для исторической концепции Фуко стала сама история как длительность, которую этот автор пытался заменить дискретными пространствами знания и власти. Однако у Фуко сохраняется имплицитное пред-
[54]
ставление о линейном течении истории. Гваттари предлагает принципиально иной подход: отказываясь от какого бы то ни было объяснения линейности, он анализирует трансверсальные, т.е. поперечные, процессы, которые он описывает как «машины». Это позволяет ему избежать остаточного телеологизма историка, каковая, надо признать, у Фуко кое-где проглядывает довольно отчётливо. Когда Фуко говорит о дискурсах, всегда подразумевается некое дискурсивное пространство, т.е. исторически сформировавшаяся эпистема. Внутри неё как раз и действуют дискурсы, которые образуют единую конфигурацию знания-власти. У Гваттари работают не дискурсы, но «машины», которые, конечно, могут входить в состав «мегамашин», но их работа всегда «поперечна» по отношению к историческому движению. Кроме того, это позволяет Гваттари оставаться бoльшим материалистом, поскольку речь идёт не об отношениях «слов и вещей», но о производстве - производстве субъективности, производстве капиталистическом и т.п.
Далее, обсуждение аспектов «машинности» позволяет затронуть проблемы клинического порядка: во-первых, модификации медицинского знания выступают как «машины» по производству «медицинских суждений», и машины эти сменяют друг друга на протяжении всей истории медицинских учреждений, а во-вторых, становятся заметны машины, порождающие тот или иной тип нарративности, который, в свою очередь, становится объектом клинического осмысления. В приведённом рассказе о Земмельвейсе можно легко заметить следующие «машины»: «сумасшествие» в глазах современников врача, предлагающего мыть руки; «сумасшествие» врача в глазах Гваттари, характеризующего его «подвиг» как «идиотский героизм»; паранойя Л. Селина, воспроизводящего эту историю и т.п. Мытьё рук, восклицание «сумасшедший!», подвижничество Земмельвейса - всё это также машины, только низшего порядка. Обращаясь к проблеме психического нездоровья Селина, собеседники поднимают ещё одну проблему - проблему достоверности исторического рассказа и вопрос о той модификации машинности, которая заставила параноика Селина обратиться к этой истории. Таким образом, всё, что попадает в поле зрения участников семинара (да, кстати, и сами они) является машинами.
[55]
Скажем ещё раз о достоинствах «машинного подхода»: он позволяет Гваттари не ударяться в линейный исторический анализ того, как и почему возникла такая модификация медицинского знания, в которой оказался Земмельвейс. Этот анализ обязательно будет опираться на мифы вроде мифа о прогрессе. Гваттари просто уходит в сторону от такой «истории». Вместо этого он предлагает анализировать саму модификацию, для которой призыв к мытью рук оказывается «сумасшествием», а мысль об «атмосферно-космической эпидемии», вызываемой «миазмами», представляется исполненной здравого смысла. Наконец, следует сказать и о том, что вся эта «машинерия» представляет собой этическую позицию Гваттари - врача и исследователя: «и это объяснение имеет право на существование», «и это объяснение мы должны учитывать».
Теперь нам более или менее понятно, что такое машины. Однако необходимо выяснить, каким образом они функционируют. Главный вопрос заключается в том, каким образом происходит машинное порождение смыслов. Чтобы прояснить его, обратимся к семиотическим концепциям Гваттари.
[56]
|
ПОИСК:
|
© FILOSOF.HISTORIC.RU 2001–2023
Все права на тексты книг принадлежат их авторам!
При копировании страниц проекта обязательно ставить ссылку:
'Электронная библиотека по философии - http://filosof.historic.ru'